
Лучше всего мне удавалось на сцене передать страсть, любовные страдания. Но моя сценическая любовь никогда не направлялась на одного конкретного мужчину — всегда была любовь к жизни и благодарность Богу за то, что он подарил мне такие эмоции и такое мировосприятие.
А поэтому, когда прошлая молодость, Костя Петрович умер и отошли эмоции и желания, — спасает то, что ничего не изменилось, что никуда не делось то широкое понимание любви к детям, сочувствие к чужим людям. Костя Петрович был другим человеком, он говорил мне: «Не надо говорить о любви». А я считаю, что только о любви и надо говорить, и более ни о чем.

Когда достигаешь какого-то возраста. Однако я всю жизнь была стара, с детства. И Катя моя стара, никогда не была ребенком. Меня можно воспринимать как что-то инфантильное, с розовыми очками. В действительности же с самого начала я очень трезво смотрю на жизнь, и это не мешает мне лелеять в себе любовь. Может, потому, что я хитра — мне более легко, когда люблю.
— Это дар?
— Это работа. Когда истощена творческими неурядицами, или что-то не складывается, или раздражает старость, — достаточно поехать в село. Еду туда мертвая. А дошла до какого-то колодца, яблони, наклонилась над травинкой, цветком — и все начинается сначала, ты — как ребенок, все тебе дорогое. Почему я говорю, что это работа. Я ехала из похорон Костя Петровича, через два дня у меня было представление в Москве. Вроде бы же надо стоять над могилой и плакать, однако мы так прожили жизнь, что нужно ехать и работать — тогда легче.

Это уже жизненная хитрость. Я — вдова. До этого никак нельзя привыкнуть, как не привык к смерти матери. Однако я вышла к людям на киевский перрон — сколько раз я приезжала и отбывала, сколько людей меня провожали и встречали, сколько эмоций, целая моя жизнь на том перроне, — зашла в поезд — это был последний вагон, — поезд тронулся — и отошло от меня все плохое. Светофоры, здания — все куда-то делось. Может, это тренированная актерская фантазия, а может, это моя природа. Костя Петрович не раз повторял, что я люблю детей больше, чем его. Я сердилась на такие замечания. Но вот его не стало и я вижу, что все-таки детей любила больше. Это, может, и несправедливо. Но что такое больше или меньше? Когда-то мой папа спросил у сына Костика: «Ты кого любишь больше — папу или маму»? Тот помолчал и ответил: «А ты»? То есть дети подсказывают, что не может быть любви больше или меньше. Она или есть, или ее нет. Почему Костя Петрович так говорил? Просто за детей больше тревожишься. А между мужчиной и женщиной другие отношения.

Я думаю, как человек должен дожить жизнь. От старости спасает только ранняя смерть. Мне через год семьдесят. И чем жить? В этом возрасте уже ежедневно разочарование. Как смириться, как душу лелеять? И что спасает? Только любовь. Вот эту киску я обожаю, она такая добрая. Она пришла в нашу сельскую хату, когда умер Костя Петрович. Она не способна на измену, как люди. Когда человек мне изменяет, я с ним не общаюсь, но любовь к ней не исчезает. Это дает возможность старой женщине не стать ведьмой. А сколько ведьм!
— Но их и среди молодых хватает, особенно в Украине.
— Любовь уничтожает это ведьмовское отродье. Здесь у меня в окне семь крестов Софии, и когда заходит солнце. Я здесь работаю на кухне, на этом столе, на котором лежал Костя Петрович, здесь стоял гроб. За этим столом мы едим, и за этим столом работаем, он притягивает нас. Когда садишься работать, горят купола Софии, или просвечивают через дождь и туман, или вороны над ними крячут — даже в село на природу не надо ехать
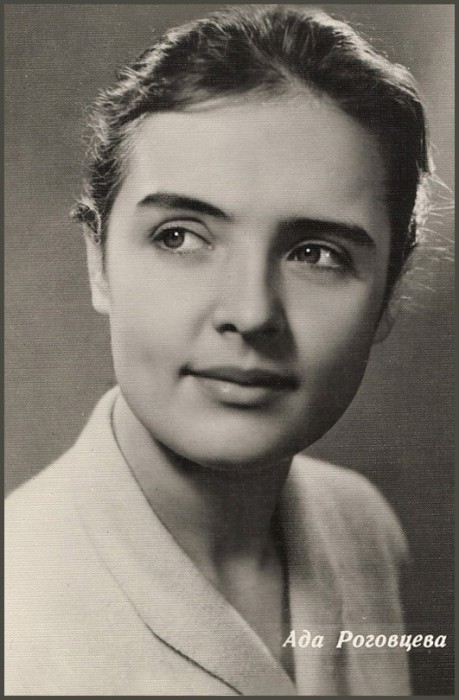
— Почему вы начали писать стихи?
— Я начала писать стихи в школе. Умер Сталин и это было потрясение. Нам было по 10-15 лет и мы его любили. Нас научили, что Ленин и Сталин — лучшие люди. Потом все заглохло, жизнь закрутила. Когда появились внучки (а они дарятся Господом, чтобы опять нас расшевелить), я стала опять писать стихи. Мне было 50 лет. Из стихов я перешла на прозу. Написала книгу о Косте Петровиче. Катя мне помогала.
Почему раньше люди писали письма, и литература была более изысканной? Потому что все писали. А теперь никто не пишет, разве что «эсэмэски». Я говорю всем: «Пусть вас называют дилетантами, любителями, графоманами, — вы должны написать историю своего рода. О чем бабушка рассказывала или дедушка». Об этих людях уже не напишут книгу, их не внесли в энциклопедии, они пошли в никуда, хорошо, если на могиле хоть камень стоит. Этим я оправдываю свои попытки писать. Когда выходила книга о Косте Петровиче, волновалась так, как не волновалась ни перед одной премьерой. Эту боль выплеснула — и стало легче жить. Волновалась, будет ли нужно кому-то написанное мной. Мне не важно, как книгу оценят с профессиональной точки зрения. И не потому, что хочу спуститься до уровня мексиканских сериалов. Как здесь разобраться? Видите, мне почти семьдесят лет, а я как дитя разбираюсь, что хорошо, а что плохо. Газеты, журналы, критику при моей жизни столько грязей вылили, что я пыталась уже от этого абстрагироваться. Полтора-два месяца тому назад приезжаю из Москвы, и чувствую, что в семье какое-то напряжение. «Что случилось? Опять какая-то гадость»?. — «Есть, мама». В газете «Факты», кажется, напечатали интервью Степана Алексеенка с Гордоном под заглавием «В молодости в меня был бурный роман с Роговцевой». Я говорю: «Не может быть, как это Степа такое сказал бы».
— Может, шутя сказал.
— Он этого не говорил. Только: «Она была прекрасна в молодости и сейчас». Степа очень порядочный мужчина. Если бы даже был какой-то роман, то он об этом не распространялся бы. Думаю, надо позвонить хотя бы посмеяться, потому что он проникается больше, чем я, через эту клевету. Приезжаю домой, а Костик по телефону: «Степан умер». Как так можно — память о Косте Петровиче, Степана порочат?! Однако я жива и знаю правду. Как найти в себе те силы, как с этим смириться?! Это уже ненависть, а хочется ее избежать. Оставив Театр русской драмы, в котором проработала 35 лет и который так люблю, я пыталась отстраниться от тех людей. Хотелось что-то забыть, чтобы защитить в себе ту любовь. Я компромиссная женщина.
— Какие роли сейчас у вас?
— О них не хочется и говорить. Я благодарна Богу, что у меня есть работа, что выхожу на съемочную площадку или на сцену, но я трезво смотрю на жизнь и вижу (работаю по большей части в России, в Санкт-Петербурге и Москве) — вряд ли будет какая-то значимая роль. Я с этим смирилась. И все же я мечтаю сыграть — если отзовутся люди, состоятельные финансировать, — монопредставление по Стефанику и Кобылянской. И еще есть одно представление о примадонне. Четыре-пять раз в месяц я выхожу на сцену. Снимаюсь много. И партнеры по работе — то большая радость: Джигарханян, Ульянов, Шарко.
— Вы женщина, которая реализовалась и в профессии, и в семье. Хотя часто случается, что люди, которые, так много успели в работе, не имели семьи, или даже имели, то не крепкую. В чем ваш секрет?
— Чехов говорил «В человеческом счастье есть что-то грустное». Богемная, творческая атмосфера не могла не зацепить моих детей и они такие, как есть. Это не значит, что я реализовалась. Может, я хотела бы быть другой мамой, другой актрисой. А судьба распорядилась именно так.
