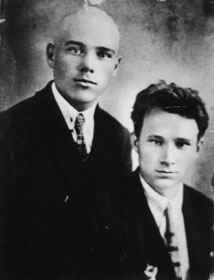
Среди самых первых строителей БАМа был «враг народа» поэт Кесарь Андрийчук. Когда молодой поэт, студент Одесского института народного образования Кесарь Андрийчук в 1929 году давал рукописи своего первого стихотворного сборника название «На изломе» (вышла 1931-го), он и мысли не имел, какой точной в сущности она окажется. Имел в виду, конечно же, излом старого «капиталистического» уклада жизни с его «буржуазной» культурой и строительство на руинах новой — коммунистической — будущности.
И эстетичный пафос книжки, и типичный для суток круг тем полностью укладывались в такое истолкование. Однако именно тогда общество переходило пору другого излома — ломался традиционный способ ведения хозяйства, первого сокрушительного удара испытали национальные культура, наука, искусство, а места репрессированных ярких личностей массово заполняли послушная посредственность и бездари. Об этом Андрийчук, понятное дело, не думал, как и о том, что глобальный излом вскоре пройдет и в его собственной судьбе, трагически разделив ее на два периода: «до ареста» и «после ареста».
До ареста его жизнь складывалась полностью успешно и шла по восходящей. Когда случился большевистский переворот, Кесарь был десятилетним мальчишкой и жил в родном селе Латанци Подольской губернии (позже оно войдет в состав Тивривского района Винницкой области). Начальное образование получил в церковно парафиальной школе, потом год учился на столяра в техническом училище в соседнем местечке. Некоторое время секретарствовал в комбеде, заведовал домом-читальней, дописывал в окружную газету «Красный край», аж пока в 1924 году, имея за плечами полных семнадцать, не вступил на трехлетние педагогические курсы в Виннице. Там он познакомился и подружился с поэтом и баснописцем Никитой Годованцем. По окончании учебы решает получить высшее учительское образование и едет в Одессу.
Там и начинает раскрываться литературная одаренность Андрийчука. Он посещает институтскую литстудию, городское литературное объединение, где знакомится из тогда молодыми, а впоследствии известными писателями Степаном Олейником, Савой Голованивским, Степаном Крижанивским и другими. В 1928 году в окружной газете «Красная степь», а вскоре и в других начинают печататься его стихотворения и поэмы, из которых он заключает первый сборник и посылает в Харьков в ведущее тогдашнее издательство «Литература и искусство». Поэтому когда в 1931 году он возвращался на Подолье, то среди вещей лежал не только новенький диплом учителя-словесника, но и упомянута первая книжка — неопровержимый признак всеукраинского признания.
Искренний пафос строительства нового мира и отрицания старого, юный романтичный порыв в неизведанное, экспрессивная импрессионистическая поэтика, которая утвердила себя в литературе в начале двадцатых, и даже попытки примирить «реакционный» лирический пейзаж с урбанистическими производственными ритмами — все это находило выражение в его стихотворениях:
Бунтарят дни...
Огни над городом.
Цветут сердца миллионных масс
а солнце — горстями ожерелье
а солнце — утренний горнист.
Но в то же время с этим — обязательная дань темам гражданским: вселенская грусть после смерти Ленина, воспевание мощи красного военного флота и тому подобное.
Андрийчук устраивается на работу в Тивривскую школу, где сразу организует из учеников литературный кружок, а впоследствии устраивает для крестьян большой вечер с чтением произведений и своих собственных, и школьников-начинающих. Продолжает много писать, печатается в печати центральной, в 1932 году подает к издательству рукопись второго сборника, а еще через два года — третьей. В 1935-ом его принимают к Союзу писателей, а обком комсомола отзывает в Винницу и назначает заведующим отдела литературы и искусства газеты «Молодой большевик». А еще через два года обком КП(б) В направляет его на новую работу — заведовать отделом в краеведческом музее.
Здесь первый период жизни писателя заканчивается. На улице стоял 1937-й, «черные вороны» приезжали за многими. 8 сентября один из них приехал и за поэтом Кесарем Андрийчуком. Это, наверно, было закономерным: в тоталитарном обществе «вакансия поэта», если верить словам его коллеги, «опасна, если не пустая». Второй и третий сборники стихотворений арестованного мира уже не увидели.
После того, как за спиной закрылись двери переполненной тюремной камеры, об Андрийчука «забывают» на целых два с половиной месяца. Первый допрос — только 17 ноября. И начинается он не вопросом, а стандартной констатацией того, в чем следователь давным-давно определился: «Вы обвиняетесь в принадлежности к антисоветской националистической украинской организации и проведении контрреволюционной националистической работы на культурном фронте. Признаете себя виновным в этом». (В документе именно так — без вопросительного знака!)
Как и следовало ожидать, Андрийчук обвинения отрицал: «Виновным себя не признаю...» Но на это он получил также стандартный ответ: «...Вы даете ложные показания, в чем и будете изобличены следствием».
После таких слов следователь берет тайм-аут для подготовки «доказательств» вины Андрийчука, причем делает он их чрезвычайно легко и просто. На этом моменте стоит остановиться дополнительно, потому что он слишком красноречиво показывает некоторые методы советской политической полиции. «Доказательствами» стали четыре протокола допросов людей, знакомых из Андрийчуком по совместной работе в Тиврове.
Двух из этой четверки раньше арестовывали органы госбезопасности, но им повезли выйти на волю. Учитель Александр Карбовский в 1933-ом году проходив по сфабрикованному делу так называемого «Подольского филиала Украинской военной организации» и был осужден к условной мере наказания. Директор Тивровской школы Петр Боднарук в 1930 году провел за решеткой в тюрьме ДПУ девять месяцев, где его якобы проверяли на принадлежность к «националистической организации». Перепуганные люди, боясь опять попасть в тюремную изоляцию, готовы были подписать все, что прикажет следователь, даже не читая.
А вот третий свидетель, священник Николай Фищенко, оказался фигурой еще более интересной. Забегая кое-что заранее, процитируем протокол его допроса от 1956 года, когда было нарушено дело из реабилитации Андрийчука: «Начиная с 1923 года, я сотрудничал с советскими органами госбезопасности и постоянно поддерживал с ними связь, выполняя отдельные поручения». Когда его должны были познакомить из Андрийчуком, то он «рассказал об этом сотруднику органов ГПУ. Получил вот него указание познакомиться с Андрейчуком и, не навязываясь эму, выяснить его политические настроения». Человек, который осуществлял за писателем негласный присмотр, так же за указанием оперуполномоченного «рассказала» на допитых все, что нужно было рассказать о «враге народа».
Эти люди решили последующую судьбу Кесаря Андрийчука. Даже через два десятка лет, когда им уже ничего не угрожало и, можно было сказать правду, двое из них продолжали настаивать на «контрреволюционной деятельности» поэта!..
За неделю после первого допроса было готово обвинительное заключение. Вся вина поэта, если верить написанному, заключалась в том, что он организовал в школе литературный кружок, на котором воспитывал школьную молодежь «в антисоветском шовинистическом духе». Вторым пунктом обвинения была организация литературного вечера — на нем поэт зачитывал стихотворения из книги «На изломе», которая, оказывается, была «идеологически вредной». Третий пункт: обвиняемый якобы выражал свое неудовлетворение политикой партии на селе.
В те времена за это могли и расстрелять. Кесарю Андрийчуку действительно повезли: тройка УНКВС по Винницкой области отправила его в лагеря сроком на десять лет. С какой иронией, узнав о постановлении тройки, он вспомнил бы собственные оптимистичные строки: «О, сколько трудов, сколько сил мы понесем новым мирам!» Но еще большая ирония в том, что свои «силу и труд» он понес как раз на те территории, где через полвека должно было развернуться всесоюзное комсомольско-молодежное строительство под названием Байкало-амурская магистраль и куда впоследствии не раз высаживались десанты украинских писателей — в Селенгинский район Бурят-Монгольской АРСР. Сталин тоже начинал здесь «строение возраста», но помешала война.
Не видя за собой ни одного преступления, Андрийчук начинает тяжелую и безрезультатную борьбу за реабилитацию. Ему удается в 1939 году добиться дополнительного изучения материалов дела и допросу дополнительных свидетелей, но никаких последствий это не дает: сталинская Фемида безжалостная. Во второй раз материалы дела за его жалобой изучаются в 1946 году, но помощник прокурора Винницкой области по спецделам Степанида Пожарук подписывает суровую резолюцию: «Оставить без удовлетворения».
Осенью в 1947 году, отбыв срок от звонка к звонку, Кесарь Андрийчук наконец выходит на волю. Ему позволяют поселиться в Кемеровской области. Но Подолье он приезжает лишь в начале пятидесятых. Только что в общественном климате потеплело, как он опять пишет жалобу на незаконное осуждение — и ему опять отказывают, хоть шла уже осень 1954-го. И только в начале 1956 года та же Степанида Пожарук (!) подписывает прокурорский протест в порядке присмотра, где черным по белому значится: «Вина Андрийчука материалами дела не доказана». 15 марта постановлением суда Кесаря Андрийчука реабилитировали.
Он возобновляется в Союзе писателей, возвращается к творческому труду, пытается догнать упущенное. В 1958-ом наконец выходит его поэтическая книжка, названная «Подольская сторона». Однако неожиданно для всех, итогом творчества так и остались две книжки да еще ряд публикаций, распыленных в периодике (и, прибавим, до сих пор несобранных). Собираясь весной того же года к Дому творчества СПУ в Ирпене, Андрийчук при медицинском обзоре узнал об угрожающем диагнозе. Организм, надломленный лагерями и суровым забайкальским климатом, с болезнью не справился — он прожил всего несколько месяцев.
Третий период жизни, который можно было бы назвать «после реабилитации», оказался несправедливо коротким...
Виктор МЕЛЬНИК
