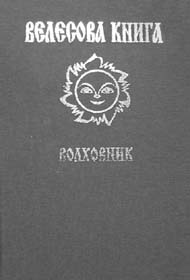
Переиздание «Велесовой книги», осуществленное в конце прошлого года винницким издательством Континентальных «ПРИМ» при участии Украинской духовной академии родных по вере, состоятельное снова — уже в который раз! — инициировать столкновение полярных взглядов на нее и в интересах каждого оппоненты готовы предложить более или менее убедительные аргументы.
Однако прежде чем выслушать участников дискуссии, стоит обратиться к фактам, которые сомнений не вызывают, — к первому преданию огласке текстов, названных «Велесовой книгой». Это случилось за полвека к появлению нынешнего нарядного синего фолианту с золотым тиснением, который содержит, кроме письмен в оригинале и нового украинского перевода, ряд дополнительных материалов, достаточно большой справочный аппарат и комментарии. В середине пятидесятых фрагменты достопримечательности стали печатать в малотиражном журнале «жар-птица», который выпускался сначала в Сан-Франциско, а затем переехал в Мюнхен. В шестидесятые—семидесятые годы «Велесовая книга» перепечатывается в канадских изданиях «Новая летопись» и «Канадийский фермер», выходит в полном виде в издательстве «Мельница» (Гаага). В Украину она приходит в 1990 году благодаря журналу «Днепр».
А вот когда мы обратимся к событиям, которые предшествовали публикациям, то столкнемся с рассказом, который скорее напоминает легенду, чем строго задокументированную историю. Согласно ней, старинная «Велесовая книга» была записана на деревянных дощечках, которые офицер деникинской армии А. Изенбек в 1919 году случайно нашел в разрушенном помещицком имении на Харьковщине. Убегая от большевистских войск, он захватил мешок с дощечками на эмиграцию и привез к Брюсселя, где жил до своей смерти в 1941 году. В бельгийской столице он подружился с любителем древности Ю. Миролюбовым, которому якобы показал находку, и тот по-настоящему заинтересовался ею — взялся за переписывание, фотографирование и изучение текстов. Впоследствии — какая неприятность! — бесценные дощечки исчезли якобы после ограбления помещения Изенбека. Остались только ручные списки из них и одна фотография. Они и стали первоисточником последующих публикаций, переводов и исследовательских толкований.
Конечно, если бы сохранились оригиналы, то лабораторные исследования точно указали бы на возраст материалов — носителей письма. А поскольку их нет, то в отношении к «Велесовой книги» четко определились расхождения во взглядах вплоть до диаметрально противоположных.
Первый из них трактует текст как настоящую достопримечательность ориентировочно девятого возраста нашей эры, которая написана древнерусскими жрецами и содержит их молитвы и исторические свидетельства об истории Руси примерно за восемнадцать предыдущих веков. Так сказать, имеем дело с языческим священным письмом, своеобразным восточнославянским аналогом Ветхого завещания. По мнению сторонников этого взгляда, «Велесовая книга» является «почтенным духовным документом» и раскрывает «глубинные истины языческой веры наших пращуров», как пишет составительница нового издания Г. Лозко. Она является лидером религиозного объединения разноверов Украины, которое считает себя наследником нашего этнического язычничества, уничтоженного после введения христианства (возможно, потому богознавческие комментарии Г. Лозко откровенно направлены против христианства и — шире — против религий монотеисток в целом). А вот относительно доказательств того, что дана конкретная достопримечательность действительно существовала, то создается впечатление, что по эту сторону дискуссионной «баррикады» ее подлинность просто приняли на веру.
Вторая сторона пользуется другим подходом: даже при отсутствии оригинала имеющиеся тексты и, тем более, фотография полностью подлежат научной языковедческой экспертизе, которую и сделала доктор филологических наук Л. Жуковская (см. «Вопросы языкознания», 1960 № 2). Во-первых, она обоснованно поставила под сомнение подлинность предмета, изображенного на единственной фотографии: фотография явно изображала не доску (полное отсутствие фактуры дерева), а мягкий материал — бумагу или ткань — с надписью. Во-вторых, скрупулезный анализ графики показал, что на ней присутствуют отдельные знаки письма, неизвестные в кирилической азбуке, а потому трудно сказать, на обозначение каких звуков они применялись.
Но поистине трудно что-то возразить фонетическому и морфологическому анализу. Как доводит Л. Жуковская, автор «Велесовой книги» не мог жить в девятом веке, потому что одни фонетические особенности текста вообще присущи более позднему периоду — XII-XIII веком, другие абсолютно не отвечают закономерностям развития языки, которые хорошо изучены и согласовываются с другими многочисленными достопримечательностями. (Даже само название «Велесовой книги» за первоисточником — «Влес книга» — с точки зрения истории древнерусского языка является абсурдной, поскольку и в IX веке, и раньше, и позже могла существовать только полнозвучная форма из «-еле-», о чем свидетельствует имя бога Велеса. Форма «Влес» явно выдает позднюю «стилизацию» под язык церковнословянский.) Автор вовсе не осведомлен и с тогдашними парадигмами спряжения существительных и глаголов. Доходит до курьезов, когда, скажем, слово «дщер» (дочь) относится в форме... мужского рода.
В статье, написанной в соавторстве из Ф. Филином, Л. Жуковская так характеризует автора: «Человек, вероятно, читал старинные рукописи, но не знал, как развивались язык и письмо, какие закономерности они имели на разных степенях своей истории». Вывод они делают лаконичный: «Это полностью явная и грубая подделка...» («Русская речь», 1980 № 4). Доктор филологических наук О. Творогов, сделав независимо от Л. Жуковской самостоятельное исследование, так пишет о языке «Велесовой книги»: «...Это набор искусственно искаженных слов, которые не подчиняются никаким правилам грамматики» («Литературная газета», 1986, 16 июля). Выраженные и обоснованные предположения относительно возможных настоящих авторов текста — известного фальсификатора начала XIX века А. Сулакадзева и самого Ю. Миролюбова.
К чести распорядителей нового издания, следует сказать, что они навели разлогую библиографию, не опуская резко негативных отзывов о «Велесову книгу». Правда, реакция на эти отзывы оказалась по меньшей мере странной: ни одной попытки отрицания критики, которая выглядит сокрушительной. Ба — больше: автор предисловия И. Билык утверждает, что Л. Жуковская... «удостоверяла подлинность достопримечательности»!
Конечно, каждый читатель имеет право составить личное мнение, прислушиваясь к тем или другим доказательствам и собственным знаниям (автору этих строк, филологу по специальности, убедительнее кажутся аргументы Л. Жуковской и О. Творогова, чем Г. Лозко и ее единомышленников). Но вещь в том, что теперь полемика выходит за рамки всего лишь обмену мнениями в сравнительно узком кругу филологов или разноверов. А здесь уже, согласитесь, не обойтись без официального вывода, который могли бы совместно подготовить ведущие академические учреждения Украины в отрасли языкознания, литературоведения и истории, чтобы наконец поставить точку в этом затяжном противостоянии.
Виктор МЕЛЬНИК
