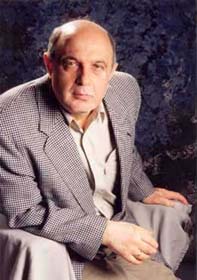
В наше время победы пиара над умом процесс отделения зерна от половы является реально сложным даже для того, кто считает себя человеком эрудированным и адекватным. Противостоять внешним факторам сегодня — это гамлетовское «быть или не быть» в какой-то энной степени, решение которой по силам найти лишь гениальному математику.
Для того, чтобы проиллюстрировать эту ситуацию примером из искусства, достаточно вспомнить хронические споры администрации и литературной части, свойственные сегодня или не каждому нашему театру. Тогда как администратор в борьбе за кассу настаивает назвать дежурную премьеру как-то интригующе-привлекательно, чтобы соблазнить зрителя, завлит отстаивает здоровый консерватизм и просит не издеваться над авторитетной драматургией таким способом позорный.
В Национальном театре имени Леси Украинки баланс выдерживать умеют — афиша, которая изобилует привлекательными названиями, здесь вовсе не яркий фантик, а содержательный путеводитель для театралов, которые могут избирать между комедиями, драмами, представлениями, где нужно напрягать свое воображение и раскодировать каждую мизансцену или же спектаклем-праздником, похожим на фейерверк.
Десять лет тому назад художественным руководителем театра имени Леси Украинки стал народный артист Украины, режиссер Михаил Резникович. Это для вечности десятилетия — «Лишь взмах ресниц», театр же за этот отрезок времени может измениться очень существенно...
— Михайло Юревичу, какое настроение в юбилейный год? Что успели за эти десять лет, а что отложили на завтра?
— К юбилеям я отношусь негативно — в любом юбилее есть солидная часть фальши... Что касается того юбилейного момента, о котором сказали вы, — то, что я десять лет руковожу театром, то о нем даже не думал. Говорить об этом сложно... За это время к театру пришло много молодежи, пришли артисты среднего поколения. Задание тогда было одно: сыграть труппу. Чтобы артисты работали на общий результат, чтобы они чувствовали друг друга, понимали друг друга... Насколько это нам удалось — решать зрителям. Мне кажется, кое-что удалось. Особенно ввиду некоторых наших спектаклей последних лет — «Насмешливого моего счастья», «Деревья умирают стоя»...
— А что вам больше всего запомнилось тогда, десять лет тому назад?
— Я пришел в театр, когда в нем были только три артиста от 35 до 45 лет. Две женщины и один мужчина. Это катастрофа. А то, что к этому за 25 лет театром руководило 13 главных режиссеров, — это еще одна катастрофа. И естественно, что никто из них не думал, не мог думать в отведенное ему время ни о будущем, ни даже о нынешнем.
Наполнение труппы не было, коллектив артистов сильно постарел... Мы начали этот процесс, параллельно начали ставить представления. За это время, как по мне, у нас были несомненные победы, одна из которых — представление «Каминный хозяин», она у нас идет с зрительским успехом, с успехом в критику ... С этим спектаклем мы с огромным успехом выступали в Санкт-Петербурге, в Москве... У нас возникло поколение актеров среднего возраста, актеров интересных, мощных, — это и Виктор Сарайкин, и Юрий Гребельник, и Виктор Алдошин... К нам пришел, как по мне, талантливый актер Александр Гетьманский. У нас интересно работает Станислав Москвин, у нас интересны молодые героини Наталья Доля, Ольга Кульчицкая, Анна Наталушко и этот перечень можно продолжать и продолжать — боюсь даже кого-то оскорбить, если пропущу чью-то фамилию. Мы пытаемся работать дальше, исповедуя принципы психологического театра для людей. Сегодня, в этой экономической ситуации, это не просто. Но, судя по наполняемости зрительного зала, отзыв у зрителей мы находим.
— Проблема стариков и молодежи всегда была для театра особенной. У Русской драмы хватает уважения к старшим актерам и вниманию к молодежи?
— Мне кажется, хватает. Мы всегда пытаемся занять наших летних актеров в репертуаре, если им по силам эта роль, хотя ролей вековых, как правило, не так и много. А что касается молодежи, то она играет даже больше, чем нужно. У нас есть студия молодых актеров, каждый год они показывают самостоятельные работы, кроме того, что занятые в репертуаре, занимаются актерским тренингом. В результате этих показов лучшие их работы потом трансформируются в репертуарные представления — среди таких, например, «Татуируемая роза». Мы в театре даем шанс всем, кто хочет работать. А кто не хочет?.. Это уже его дело...
— Михайло Юревичу, с 1971 года вы выкладываете режиссуру и актерское мастерство в Киевском театральном институте. «Я — ученик Резниковича» — что стоит за этой фразой? Повышенные обязательства и ответственность или такой себе аванс, многообещающий бонус в последующей карьере?
— Даже не знаю... Я бы говорил не о своих учениках, а о тех, кто у меня учился. И те, кто у меня учился, делящиеся на несколько категорий. Одни взяли творческие и моральные критерии, которые я пытался им выкладывать; другие — лишь творческие... И жизнь в них в театре складывается по-разному. Вы знаете, восемь лет тому назад я выпустил прекрасный курс. Почти все выпускники этого курса побывали в театре. Из них в театре осталось двое, хотя все были чрезвычайно талантливы. Но человеческие качества, моральные качества, отсутствие работоспособности не дали им возможности, не позволили им остаться, и они вынуждены были пойти. С другой стороны, к нам пришла Наталья Доля, которая училась в Рушковского и стала в нашем театре прекрасной героиней... А есть те, кто учились у меня и стали красивыми актерами, — Кирилл Кашликов, Дмитрий Савченко, Ольга Кульчицкая, а есть те, которые не стали...
— Вы их просмотрели?
— Нет, почему я их просмотрел — они сами себя просмотрели. Одного таланта, для того, чтобы стать актером театра, мало. Нужно понимать, нужно работать, постоянно крутить педали своего мастерства. Уметь работать в коллективе, осознавать себя членом этого коллектива, потому что театр — искусство коллективное. Если совокупность этих качеств отсутствует — актер не состоится, даже если на биологическом уровне он для этой профессии может подходить идеально.
— Как вы относитесь к работе актеров Русской драмы вне театра?
— Нормально. Если это не мешает — пожалуйста, работайте. Если мешает и очень — давайте выбирать. Пока еще таких случаев, когда выбирают не в интересах театра, не было. Но даже если бы они и были, я бы это понял. В принципе, это естественный процесс. В Москве актеры часто избирают не в интересах театра. Если бы у нас случилось такое — я бы лишь сказал «Дай боже». Если актер нашел более интересную среду существования, эффективнее, как для него, место применения своего таланта — почему нет? Хотя если тебе хорошо в театре — никогда не иди отсюда, думая, что-то где-то тебе будет лучше, если же плохо — иди и ищи свое место в жизни, в искусстве.
— Такие серьезные прилагательные в названии театра как «национальный», «государственный», «академический», наверное, не слишком уживаются с какими-то экспериментальными идеями и желаниями?..
— Это непросто, но мы пытаемся. С одной стороны, у нас есть представление, которым, мне кажется, мы можем гордиться — это «Каминный хозяин», мы уже в пятый раз обращаемся к этой пьесе Леси Украинки. В свое время главный режиссер Константин Хохлов в 1939 году открыл «Каминного хозяина» как сценическую пьесу. Именно поэтому правительство Украины в 1940 году присвоило театру имя большой поэтессы. Ранее ее считали пьесой для чтения, попытки поставить «Каминного хозяина» на сцене были неудачными. Мы поставили его и, как по мне, это серьезное духовное представление, достойное репертуара академического национального театра. Мы поставили «Насмешливое мое счастье» — представление о Чехове, а в то же время и о нас... Это прекрасная духовная драматургия, когда-то этот спектакль шел у нас в течение восемнадцати лет, в настоящий момент мы опять его обновили. Мы поставили «Волки и овце» Островского — как по мне, таким представлением может гордиться любой театр. Министр культуры Российской Федерации Михаил Швидкой пригласил этот спектакль к Москве, в октябре мы должны будет приятность показать «Волков и овец» в Москве. Мы поставили «Деревья умирают стоя», где прекрасно играют наши корифеи Валерия Заклунная и Юрий Мажуга... Это — одно направление нашего театра. Но в то же время мы открыли сцену «Под крышей» и выпустили премьеру «Александр Вертинский. Балл Господен». Евгений Лунченко играет это представление на полной отдаче, и у нас уже за месяц нет билетов. Так мы экспериментируем. Мы выпустили на этой же сцене представление за пьесой молодого русского драматурга Ивана Вирипаева «Валентинов день» — и это также своеобразный эксперимент в смысле формы, актерской подачи. Такие эксперименты мы можем себе позволить.
— «Валентинов день» — название романтичное...
— С этой пьесой у нашего театра особенные отношения. Вирипаев писал ее, отталкиваясь от пьесы Рощина «Валентин и Валентина», написанной тридцать лет тому назад. Так вышло, что я был присутствует при том, как создавалась эта пьеса, — мы жилы из Рощиным в одном общежитии в Москве, он читал мне ее рукопись. Я начал работу над пьесой в 1971 году, там были заняты молодые Наталья Ковязина, Лариса Кадочникова, Анатолий Пазенко... Тогда Министерство культуры закрыло наше представление, назвав эту пьесу неполноценной, грубой, с мелкой темой и проблематикой. Но в то же время «Валентин и Валентина» шла в двух театрах Москвы — МХАТи и «Современнике» ... И вот через тридцать лет мы взяли к работе «Валентинов день», в котором есть цитаты из «Валентина и Валентины»...
— Русская драма сегодня имеет наибольшее количество сценических площадок в Киеве — три плюс аренда зала консерватории. Как чувствуете себя у роли «сценовладельца», идей и потенциала хватает?
— Не хочу в настоящий момент удаваться в подробности, но от аренды зала консерватории мы вынуждены были отказаться ... Да и особенно завидовать нам нет никакого смысла, поскольку три сцены — это очень относительно. Театр в фойе возможен лишь тогда, когда не идет представление на основной сцене — это, как правило, дневные или утренние представления. Одно отрицает другое. Хотя нам сегодня реально не хватает еще одной сцены с приличным зрительным залом. Сцена «Под крышей» у нас может вместить не больше 65 зрителей.
— Михайло Юревичу, людям искусства, как известно, амбициозности не занимать. Держать баланс между претензиями актера и интересами театра удается без осложнений?
— Баланс держим, но это непросто. Хотя что такое амбиции? Есть творческие амбиции, а есть амбиции от дурости. Амбиции от дурости, от того, что человек очень преувеличивает свои возможности, уровень своей одаренности, они вредны для театра. И я еще раз хочу сказать: если человек идет в театр, то она должна понимать, что это искусство коллективно. Если он не может работать в коллективе, если он не может покорить себя делу, то даже при наибольшем таланте актер не впишется в ансамбль театра... Это все те составляющие, без которых театр существовать просто не может.
— Как вы относитесь к разговорам в печати или в кулуарах о кадровой политике театра. Прошлой осени, например, много говорили о том, что Резникович освободил первого красавца Русской драмы, талантливого Дмитрия Лаленкова, неактивный привлекает к репертуару Ольгу Сумскую...
— Из Лаленковым мы не продолжили контракт из-за целого рядя творческих производственных проблем. Что касается Сумской — ее жизнь в театре была не достаточно активной, у нее были другие приоритеты: кино, телевидение... Но в настоящий момент Сумская получила прекрасную роль в спектакле «Маскарад». А относительно разговоров в печати... Знаете, еще Пушкин когда-то сказал: «Если в России упразднят цензуру — я вместе с семьей эмигрирую в Константинополь». Бесстыдство и непрофессионализм некоторых людей, которые полощут грязное белье и думают, что пишут о театре, пределы не имеют.
— Изменится ли в этом году ваше отношение к «Киевской пекторали», которую вы в прошлые годы принципиально игнорировали?
— Нет, не изменится. Нам вот недавно поступило письмо из оргкомитета «Киевской пекторали». Пишут, что так говаривал и так, на первом этапе мы включили Валерию Заклунную, Татьяну Назарову, Ларису Кадочникову, Наталью Долю, режиссеров наших, но, поскольку вы отказываетесь принимать участие в «Киевской пекторали», из последующей борьбы мы этих номинантов вычеркиваем. Мы сказали: «И хорошо». Понимаете, если в Москве есть десять театральных премий, то по крайней мере одна из них будет и авторитетной, и серьезной. А когда в Киеве одна-единственная — то в ней должен быть наивысший уровень профессионализма. Если же такого мы не наблюдаем — принимать участие в такой премии просто несерьезно. Мы не на кого не обижаемся, ни к кому не имеем никаких претензий. Просто хотим заниматься своим делом.
— Вы считаете людей, которые входят в экспертный совет «Киевской пекторали», недостаточно профессиональными?
— Я считаю, что люди, которые занимаются оценкой результатов, иногда проникались не творчеством, а чем-то совсем другим. То же существует в Москве: Михалков три года тому назад попросил снять его кандидатуру из номинантов на «Нике», а Галина Волчек вообще считает, что ее театр никогда не брал и не будет брать участия в «Золотой маске». Ничего страшного в этом нет. В последнее время мы были свидетелями такого поражающего несоответствия лауреатов уровню их профессионализма — здесь просто комментировать ничего. Когда в обсуждении номинантов на «Оскар» принимают участие пять тысяч экспертов — то это одно... Ну не пять тысяч, хотя бы сто лиц... А когда это решается очень кулуарно — это всегда субъективно. Когда вспомнить историю, все началось с того, что в сорок восьмому было уничтожено целое поколение театральных критиков в Киеве. Александр Борщаговский поехал в Москву, Сахновский-Панкеев — в Ленинград, прекрасные театроведы Яков Ган и Иосиф Киселев были настолько перепуганы системой, что замолчали раз и навсегда. В настоящий момент эту историю воспроизводить чрезвычайно сложно. Любая профессия в театре — как гончарное ремесло, она передается из рук в руки.
— Поэтому нервы, которые номинанты «Пекторали» будут тратить на переживание относительно того, изберут или не изберут, вам пригодятся для новых спектаклей и гастролей?
— Да. В октябре мы поедем в Москву, летом, скорее всего — в Севастополь, недавно нас пригласили в Турцию — хотим повезти туда представление «Настоящий мужчина в начале тысячелетия», которая у нас прошла уже 110 раз. Возможно, примем участие в фестивале современной драматургии в Германии. Надеемся в этом году поставить «Маскарад» Лермонотова. В мае выпустим комедию «Слишком женатый таксист». И приступаем к репетициям пьесы « Наполеон и Корсиканка» — она уже идет в других театрах города, мы попробуем не посоревноваться, а просто предложить свою версию. Художник-постановщик этого спектакля — прекрасный художник Давид Боровский.
— А в роли Наполеона — не Александр Гетьманский случайно? (Гетманский — исполнитель роли Наполеона в представлении «Корсиканка» Театра драмы и комедии. — Авт.)
— Нет, не Гетманский точно, он у нас будет «слишком женатым таксистом».
Людмила ОЛТАРЖЕВСКАЯ
