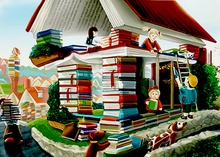
Украинские писатели разных поколений горячо обсуждали актуальные вопросы что возникли в связи с тотальным исчезновением родной детской книги, вместо которой книжные магазины и библиотеки наполняются комиксами и Диснеевской литературой.
Возникли вопросы, когда появится у нас украинский детский бестселлер? Что читать детям? Чего недостает нашей литературе для детей? Какие перемены происходят сегодня в мире и литературе в частности.
Дискуссия, оппонирование (открытое или кулуарное) одних авторов другими открыли немало проблем, и не только с детским чтением, но и относительной готовности взрослых слышать и воспринимать друг друга (разные поколения, другое мировоззрение, разный уровень успешности и тому подобное). Предлагаем избранное из произнесенного во время симпозиума. Если пунктиром обозначать то, с чем сталкиваются, и еще будут сталкиваться взрослые в контексте литературы для детей то можно выделить пункты.
Освобождать фантазию детей от Диснея
Писатель Андрей Курков рассказал, что украинские дети на предложение придумать сказку начинают «выдумывать» сказки за сюжетом мультфильмов Уолта Диснея и выдают их за свои: «Только после 5-6-разовой попытки появляются какие-то хомячки, что-то ландшафтно-украинское. Задание украинских писателей для детей также в том, чтобы приходить к детям в школу, садики и освобождать их фантазию от Диснея, чтобы дети не шли запрограммированным путем мировой культуры, к который нас толкают. Ведь детская литература сначала — национальная, базируется на традиционных, народных сказках, которых наши дети уже не знают. Я охотно написал бы увлекающееся продолжение истории о колобке. Другое дело — насколько мы в целом готовы «изменить» детской литературной традиции, чтобы поощрить детей к чему-то «запрещенному», к реализации детского фольклора? Будем ли мы и дальше форматировать детей под литературную традицию, будем ли прислушиваться к их страхам, их идеям»?.
Андрей Курков в комментарии также прибавил, что к детской литературе не стоит применять понятие «художественный уровень», а надо учитывать уровень передачи информации, образов, провоцирования мыслей, фантазии...
Ответить детям на их «банальные» вопросы
Есть жанры, которых недостает детской украинской литературе. В частности, отметила писательница Галина Крук, жанр, который учит детей находить свое место в мире, дает ответы на простые, «банальные» вопросы, на которые родители не всегда могут и имеют время ответить: «Скажем, ребенок переживает по поводу появления младшего брата или сестрички, ему кажется, что все внимание теперь на того, кто родился. Не все родители умеют об этом поговорить со своим ребенком. Или — ребенок который не хочет делится игрушками. А это то, из чего потом формируется личность. У нас есть примеры такой литературы — рассказы Евгения Гуцала, но книги такого типа очень привязаны к маркерам времени, потому они уже не могут выполнять функций, которые выполняли для нашего поколения. Большинство детских изданий на Западе имеют обязательную аннотацию, давать понять родителям, для какого времени, какого возраста, и для какой ситуации эта книга. Еще один жанр, которого недостает детской украинской литературе, — книга как средство психотерапии, жанр emotional story».
Почему Чиполлино бедный, и ему хорошо?
Писатель Андрей Кокотюха отметил, что не готов писать для малых детей, но пытается писать для подростков, которым «уже не надо ничего объяснять, главное — попробовать попасть на их волну и в любом случае не воспитывать». По его словам, традиции оригинальной литературы для детей и подростков в Украине были прерваны с 1991 года, возобновлять их начали с 2000-х годов. Такая ситуация обусловила спекуляции на рынке: «Поколения молодых родителей, которым в детстве этих книг недоставало, стремятся что-нибудь купить для своих детей. Очень часто родители спрашивают у продавцов: «У вас есть что-то детское»?. Вот что-то «детское» им, по большей части, и предлагают. Нет традиции писания, традиции чтения, традиции адекватной оценки того, что получается. Покупают некачественные книги и отбивают у детей вкус, охоту к чтению, кроме того, формируют неправильное представление о мире». Андрей Кокотюха отметил, что любимой книгой в детстве, которая произвела на него впечатление, были «Приключения Барвинка и Ромашки» Богдана Чалого, «украинский вариант американского вестерна».
Поделился писатель также наблюдениями, как воспринимают современные подростки переизданную классику, на которой вырастали поколения нынешних взрослых: «Выяснилось, что те книги, которые якобы хвалят, которые являются вроде бы проверенной классикой, в настоящее время вызывают массу сопротивления. Скажем, меня спрашивали: «Почему над Незнайкой, который одевается пестро, ярко, все смеются? Разве это плохо — выделяться? А Незнайка списан из советских стиляг, с которых смеялись. Другой пример — Чиполлино, описание абсолютного социализма, как мы теперь понимаем. Дети спрашивают: «Почему бедному быть хорошо? Почему Чиполлино бедный, и ему хорошо»?. То есть, акцентирует Андрей Кокотюха, «не всякие мостики, какие мы сегодня переводим, переводятся, не всякие традиции, которым хочется подражать, стоит наследовать».
Вместо противостояния «хорошо — плохо» — категория «другое»
Об изменении реалий и изменении литературы рассуждала писательница Марианна Кияновская: «Сегодняшние изменения связаны с цивилизационными процессами. Изменился статус самого детства, изменилось отношение к реальности: раньше выдумка была однозначно выдумкой, было противопоставление выдумки и реальности, а теперь есть выдумка, реальность и виртуальная реальность. Сам ребенок становится новой реальностью, и на это нужно ориентироваться. Поэтому просто писать книги теперь уже нельзя, написание книг и существование на книжном рынке превратилось в тихую "войну" с другими источниками, которым отдаем свое время...
Если мы внимательны, то должны заметить, что уже теперь дети теряют элементарные навыки чтения, перестают читать и не способные понять длинный текст. И это не только у нас, но и в мире. Мы переходим в мир коротких сообщений, где нет определений. Из нашего, как и из детского языка исчезают прилагательные: 6-летний ребенок не умеет назвать сложного цвета, оттенков цветов, описывать пейзаж. Картина мира подростков забита визуальной информацией, и в них нет потребности рефлексии на это.
Писатели нашего поколения оказались в ситуации, когда нужно делать вещи, которых никто никогда не начинал делать. Традиционно в литературе происходили тихие революции, изменялись способы рассказывания историй, в какой-то момент появилась фантастика на рынке детской книги. Наши бабушки, мамы зачитывались Жуль Верном, нас Жуль Верн уже интересовал гораздо меньше, а поколения нынешних подростков Жуль Верн вообще не интересует. Но эти вещи состоялись спонтанно. Мы не сможем построить настоящую литературу, если не проведем анализ литературы, и в частности детской. Реалии изменились настолько, что об определенных вещах говорить сложным языком в принципе невозможно. В настоящее время на уровне концепции меняется понимание истории, традиционной культуры. Ребенок теряется в массе информации, отображенной в разных зеркалах, теряется смысл этой информации. Детская литература должна, обязана удержать этот смысл в душе ребенка. Если мы позволим себе распылить это, не удержим этого стержня, то потеряем не просто детей, поколение, а значительно больше.
Нельзя недооценивать влияния детских книг на маленького читателя. Именно детская литература является важной в граничной ситуации. Благодаря детской литературе происходит обновление культуры. Не хочу преувеличивать, но, кажется, в первую очередь именно с помощью детской литературе, которую ребенок субъективно осваивает, закладываются основы преемственности культур, а также — взаимодействие между поколениями на разных уровнях. Если раньше литература строилась на позиции «хорошее-плохое», то теперь литература изменилась кардинально. Она вводит категории «другое», и это другое является тем, что трансформирует старую культуру, и тем, что помогает нам верить в литературу. Возможно, мы сможем трансформировать детское сознание, детское восприятие, чтобы воспринимали это другое, таким каким бы оно не было».
