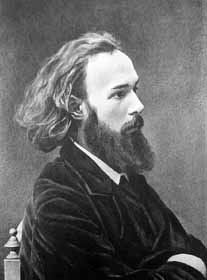
Сегодня эта страница литературной истории полузабыта, но факт остается фактом: в последней четверти девятнадцатого века самым популярным русским поэтом был Семен Надсон. Его первый сборник еще при жизни (а с момента ее появления до преждевременной смерти автора минуло менее двух лет) переиздавался четыре раза тиражами, которые обходили книги классиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова — и ее успешно раскупали. К большевистскому перевороту, после которого воцарилось тридцатилетнее молчание, она выдержала двадцать девять изданий. И биография, и творчество поэта теснейшее связанные с Украиной, в первую очередь с Киевом и Подольем.
«Детства история грустна»
Прежним киевлянином был его отец Яков Надсон, который служил на чиновнической должности в Петербурге. Там он вступил в брак с представительницей обеднелого дворянского рода Антониной Мамонтовой, там 14 декабря 1862 года в супругов родился первенец Семен. Вскоре после появления сына семья переезжает в Киев, к родителям Якова, которые имели небольшой собственный домик.
Из двухгодичного возраста и вплоть до конца жизни Сеню (так его называли близкие родственники) начинают преследовать бедность, которая и обусловила преимущественно минорную, кое-что сентиментальную тональность его поэзии — прибавим, полностью созвучную настроениям эпохи. («История моего детства — история грустная и темная», — напишет он впоследствии.) Сначала попадает в больницу и неотложно умирает отец. Иметь, оставшись с двумя малыми детьми на руках, зарабатывает на обитание, работая в зажиточной семье, как домашняя учительница и экономка.
Будучи в ссоре с хозяевами, женщина возвращается к северной столице. Однако ненадолго: во второй раз выйдя замуж, она едет в Киев, где мужчина служит чиновником, там отдает Семена в гимназию. Однако и новая попытка создать семью оказалась неудачной: отчим, измучив ближайших людей скандалами, в конечном итоге в состоянии психического расстройства налагает на себя руки. Оставшись без средств к существованию, Антонина Степановна вынуждена перебраться к Петербурга, где живет на подачки знакомых и родни.
В десять лет Сверхсон осиротел — матери укоротили возраста чахотки. С тех пор им и сестрой Анной заботятся дяди. Семена отдают в военную гимназию, потом — вопреки его воле — к военному училищу, которое он заканчивает девятнадцатилетним в сочевичнике подпоручика и едет на место расквартирования полка в Кронштадт. Военная служба юноши не привлекает, к тому же слабое здоровье и унаследованные от матери больные легкие не позволяют переносить суровые офицерские будни с физическими нагрузками.
На то время имя талантливого молодого поэта уже хорошо известно читательской публике, потому что его стихотворения часто печатают в прогрессивной столичной периодике. в 1884 году, уже будучи серьезно больным, он выходит в отставку и сотрудничает с журналом «Отечественные записки». Его на несколько месяцев посылают лечиться за границу, но пребывания в клиниках Германии, Швейцарии и Франции радикальных изменений в течение болезни не вносят. Он возвращается на весну и лето 1885 года до Петербурга, где переживает радостное событие — выход книжки «Стихотворения». Сборник сразу превращает имя Надсона в культовое, потому очень скоро — через считанные месяцы — появляется вопрос о ее переиздании.
Неумолимо надвигалась холодная, влажная прибалтийская осень, здоровье поэта отреагировало на нее ощутимым ухудшением, потому друзья ищут случая отправить Надсона на теплый юг. И тогда, на чудо вовремя, почта приносит письмо из южного запада — из Подольской губернии. Помещица Юлия Пащенко приглашает молодого, но уже прославленного писателя погостить осенней зимой к своему имению в селе Носкивцы, неподалеку от железнодорожной станции Жмеринка. На размышления и колебания времени нет: нужно ехать.
«Здесь осень чудная...»
В конце августа Сверхсон отправляется на юг, бросив Петербургу, словно последний цветок, стихотворение «Прощай, туманная столица!»:
Как часто вот небес свинцовых
И душных каменных домов
Я рвался в тень садов вишневых
И в тишь далеких хуторов.
Увидеть родной город ему уже не судились — отведенные судьбой последние полтора года поэт проведет в Украине. Короткая остановка в Киеве, где он с грустью обнаруживает, что «бабушкиного домика нет и следу», и переживает первые негативные последствия популярности (местная паненка несколько часов торчала под окнами с надеждой увидеть кумира хоть бы сквозь стекло) — и поезд постукивает рельсами дальше, к Жмеринки.
В том году осень показалась теплой и солнечной. В Надсона замечательное настроение, он много читает и пишет. Именно в Носкивцах под его пэром рождается замечательная лирическая жемчужина «Пишу вам из глуши украинских полей», словесная пластика которой невольно напоминает пушкинскую:
Здесь осень чудная: леса еще хранят
Уже поблекнувший, но пышный свой наряд;
Дни ясны, небеса прозрачны и глубоки;
Природа так светла, что вам ее не жалко
И кажется, вокруг не воздух, а хрусталь
И резвый утренник чуть колет ваши щеки...
И все же в начале он не собирается задерживаться на Подолье надолго, потому 11 ноября в письме к сестре пишет: «Впрочем, как мне здесь не хорошо, пора и честь знать, и через месяц я думаю выезжать отсюда». Но, невзирая на первобытные намерения, отъезд пришлось отложить надолго — до лета.
Письма Надсона к разным людям, бережно собранные и сохраненные подругой поэта Марией Ватсон, позволяют воспроизвести картины его пребывания в Носкивцах и изменение в настроениях, которое состоялось в течение длительного пребывания в гостях. Сначала — энтузиазм и захват, творческий подъем: «Невзирая на то, что мы живем здесь в полной глухомани, я ни капельки не скучаю: напротив, после петербуржской толчеи мне здесь очень и очень по души. Целый день читаем, играю на скрипке, ездим кататься». В благодарность хозяйки поэт занимается с ее старшим сыном и хвастается, что тот делает «большие успехи». Вскоре наступает пора зимней охоты. Сверхсон хотя и разделяет общие охотничьи вкусы, участия в нем не берет, побаиваясь простудиться.
Новый 1886 год он встречает ожиданием второго издания «Стихотворений», исправленного и дополненного, готовит третье издание. Поэзии выдаются за рубежом — выходят в переводе на немецкую, французскую, итальянскую. Сверхсон мечтает о получении Пушкинской премии и о том, что следующую зиму проведет за рубежом. А на бумагу ложатся стихотворения, которые скоро станут широко известными: «Не принесет, ребенок, покоя и забвенья», «Мать».
Но в конце зимы в психологическом состоянии поэта наступает излом, вызванный, прежде всего, неумолимо прогрессирующими чахотками. В письме к своему петербуржскому врачу он искренне сознается: «Мне кажется, что моя песенка идет к развязке: каким бы не было сильным мое желание жить, с природой ничего не сделаешь; наверно, я не нужен на белом свете». Минуты отчаяния подталкивают его к мыслям о радикальном шаге: «Все это приводит меня к состоянию ужасной тоски, которая не дает мне спать по ночам и гонит меня в мою комнату днем. Был бы у меня под рукой револьвер, я бы, по-видимому, не задумался пустить себе пулю в лоб. Лучше сразу покончить с собой, чем постоянно хвататься за призрака надежды и потом погибать снова».
В отличие от осени, всю весну стояли холода, Носкивцы окружало сплошное бездорожье, и это лишь усиливало гнетущие настроения гостя. Он пишет мало, называет ситуацию «торричелиевой пустотой», а в письме к сестре жалуется: «Чувствую только, что село, невзирая на свои прелести, мне наскучило. Достовернее всего, я поселюсь или в Киеве, или в Москве, или в Питере, ввиду того, где найденыша постоянную литературную работу».
В июне ему наконец удалось выехать из имения. Надсона берут в редакцию киевской газеты «Заря» литературным обозревателем, он поселяется в Боярке. Два литературных вечера, проведенных им в украинской столице, прошли при полному аншлагу. Однако холодное лето 86-го ускорило деструктивные процессы в легких, и на зиму он вынужден перебраться в Ялту. В декабре трудно больной поэт отпраздновал свое двадцатичетырехлетние. А в январе его не стало. Гроб с телом Надсона перевезли в Одессу, а оттуда железной дорогой отправили в Петербурга, чтобы похоронить на Волковому кладбище. Поезд ненадолго остановился на станции Жмеринка, и тогда к вагону внесли траурные венки от Юлии Пащенко...
Музей — на каникулах...
В Носкивцах о пребывании писателя не забыли. В начале 60-х годов сюда приехала учительствовать энергичная выпускница украинского филфака Надежда Огородник. Оттолкнувшись от попутного упоминания в журнале, она занялась поисками материалов, завязала контакты в России, получила оттуда многочисленные экспонаты. И в 1982-ом в местной школе (размещенной, кстати, в прежнем имении Пащенков) к 120-летнего юбилею отворил двери музей Семена Надсона — один из двух на весь Советский Союз.
Но моя попытка нынешнего лета проехаться по надсоновским местам вызывала в памяти стойкую ассоциацию со строками стихотворения: кажется, я действительно побывал «в глухомани украинских полей». Потому что и через век злая судьба не перестала преследовать поэта. Зимой в 1999 году школа сгорела по вине местных школьников. Ее в детской наивности преднамеренно подожгли ученики младших классов, чтобы... продолжить каникулы! Когда огонь заметили взрослые, было уже поздно. Пожарники нескольких районов гасили пожар три дня. Много школьного оборудования удалось спасти, в том числе и литературные экспонаты, и они лежат взаперти в каморке.
Пожарище когда-то архитектурно привлекательного барского дома седьмой год светит стенами сквозь деревья полуодичавшего парка — за это время внутри помещения молодые деревца выросли до уровня второго этажа, в классах не хуже детвору раскашивают воробьи. Школу, правда, не закрыли — она, как в перчатку, втискалась во второй корпус. На каникулы отправили только музей, потому что где там уже вести речь о комнате для него, если нет ни столовой, ни учительской. «Построим новую школу — там обязательно будет музей Надсона», — заверил меня директор.
Сельский председатель Анатолий Лавров показал эскиз проекту будущей школы, которую можно построить только за счет бюджетов высших уровней, — районного, областного, государственного, потому что сельский перебивается из хлеба на воду. Когда-то мощный колхоз опустился, а так называемое «реформирование» его добило: из двух новообразованных аграрных предприятий одно обанкротилось очень быстро и бросило необработанные поля, которые глушат сорняки; второе еще дышит, обложенное со всех сторон долгами и кредиторами. Какая на них надежда? Сессия областного совета, правда, выделила на проектные работы свыше ста тысяч гривен, но все нужно под два миллиона. С подобными темпами строительство может тянуться хороший десяток лет.
Так можно и забыть, как село в подольской «глухомани» благодаря Семену Надсону находили почитатели его таланта, едучи из всех концов Союзу и даже из дальнего зарубежья. Разве что напомнят книги восторженных отзывов гостей, которые Надежда Огородник, в настоящее время уже пенсионерка, хранит у себя дома.
Виктор МЕЛЬНИК
