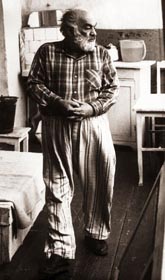
Сергей Параджанов умер от рака 21 июля 1990 года, и похоронен на своей родине — в Ереване. Однако Украина уважает его имя с не меньшим трепетом и нежностью.
Ни один фильм в мире не удостоен такого количества призов, медалей и дипломов, как его киношедевр — «Тени забытых предков», 40-летие появления которого мы отмечали в прошлом году. Кинорежиссер и художник, коллекционер и каторжник, блестящий парадоксалист и изобретательный мистификатор, максималист и скептик, среди регламентированной и степенной идейной парадности советского кино, Параджанов осуществил невозможное: реализовал себя как творец с той степенью свободы личности, которая дается лишь гениям.
Выдумка, убедительнее реальности
Чтобы понять сущность явления, обозримого умом и чувством, нужно выйти за его пределы. Именно так Сергей Параджанов и созерцал украинское искусство — «глазами космоса». То был космос его собственной души, которая смогла выразить то, чего не могли видеть люди, которые здесь родились. Ведь он был «гражданином Вселенной», поистине свободным человеком — непредсказуемой и «невероятной», нарушителем покоя в глазах надзирателей идеологического и художественного, благотворительностью и магнитом для всего не будничного. Он не вписывался в предложенные обстоятельства, выпрыскивал поза часовые и географические пределы. Поэтому, определенно, из-за избыточности своей натуры, которой было всегда тесно, — среди прописных истин, художественных шаблонов, — чувствовал себя каким-то «пришельцем».
Он был более глубок любой устойчивости и воспринимал собственное бытие как временное и призрачное «пребывание на земле», как необременительную игрушку. Ему присущие и честная, любознательная прямота взгляда, и безумная страстность, которые превращают реальность в художественное явление. Как странствующий во времени актер, он был обречен «придуриваться» и скитаться по планете в поисках самого себя и находить свое отражение в других людях, в несуразности окружающего мира. Воспроизведенной им «его» Украины (и Армении, и Грузии) не существует в природе. Имеется она — мифологическая — лишь в призрачном мире фильмов этого Большого Мистификатора. Вся этнографическая фактура нужна ему лишь для того, чтобы показать, что в основе всего лежит единственная матрица общей мировой культуры, которую каждый Поэт переводит на язык своего народа.
Как художника его больше всего вдохновляла Библия — самая первая «теория кино». Ведь Книга Бытия, описывая сотворение мира, говорит, что Господь как первичный «стройматериал» использовал свет. А единственное искусство, которое оперирует изменчивостью света, — именно кинематограф. И нет лучшего художественного творения, которое смогло бы стать олицетворением «слепку вечности», чем кинокадр. Поэтому руководствуясь библейским примером, он работал так, как будто бы к нему кино никто еще не снимал. Ведь так и должен делать истинный Художник — чувствовать себя Демиургом, творцом мира.
Фильмы Параджанова стали своеобразным «театром образов», где совсем отсутствует литература, Логос и доминирует интуитивно зрительный образ. Он конструировал новый, безмолвный художественный мир, обращаясь прежде всего к чувственному началу. Его творчество стало наглядным свидетельством того, что путь к Прозрению — именно образность, а не логические построения, непутевые «указания» рациональности. Озарение — достижение не интеллекта, а внутреннего чувственного мира, вдохновенного внешним. Параджанов вернул киноискусству Образ ребенка с эмоциональным восприятием мира.
Он вернул нам наше, как мы иногда ошибочно считаем, непутевая жизнь очищенная от заскорузлой напрасности и дрязг. Наполняя нас энергией «карнавала» под названием Жизнь, он тем самым повышает и нас самих. Где он — там делается художественное действие, балаган. И этот театр Параджанова недосягаем никому, кроме Параджанова, «человека-праздника». В его, иронического и веселого «взрослого ребенка», присутствию серая обиходность мгновенно превращается в яркую игру. Будничное явление в этой «игре в жизнь» сразу же приобретает иной, не бытовой масштаб. Созданная им искусственная действительность более естественная и куда привлекательнее, чем реальное бытие.
В его жизни было столько противоречивого и фантастического, что он должен был бы написать не воспоминания, а роман вроде «Осени патриарха» или «Игры в бисер». Достойной страницей этого романа могло бы стать, например, его письмо, посланное в пору «серого безвременья» Брежневу: «В связи с тем, что моя творческая деятельность здесь никому не нужна, прошу пустить меня в Персию». Как настоящий Магистр Игры он даже не проникался тем, что Персии давно уже не существует («А откуда же тогда персидские ковры?»).
Творить, как в последний раз
В 1949—60 годах он работал ассистентом режиссера на Киевской киностудии имени Довженко. В 1952 году закончил режиссерский факультет ВГИКу, где учился в мастерской Игоря Савченко. Дебютом режиссера в кино стал фильм «Андриеш» (1954). Потом был еще ряд документальных и научно-популярных картин — «Наталия Ужвий», «Мысль», «Золотые руки», которые он сам расценивал не иначе как «хлам».
В 1965 году за мотивами произведений Михаила Коцюбинского он поставил фильм «Тени забытых предков», в котором впервые ярко отразилась экспрессивная и романтичная, метафорическая манера кинохудожника. На нескольких международных кинофестивалях эта кинофантазия удостоилась многих премий, а имя Параджанова теперь вспоминается во всех киносправочниках среди самых славных корифеев мирового кино. Вторая значительная его работа как режиссера и сценариста — фильм «Цвет граната» — созданная уже на «Вирменфильм». После третьего заключения, в 1984 году, Сергей Параджанов поставил за мотивами грузинского фольклора фильм «Легенда о Сурамскую крепость». В 1988 году вышла его последняя картина — «Ашик-Кериб» за одноименной поэмой М. Ю. Лермонотова.
А вот от киевских «кормчих культуры» он так и не получил никакой поддержки. На то время Киевская киностудия, имела мировой вес в традициях поэтического и метафорического кинематографа, и могла бы сделать значительный взнос на мировом уровне. Однако поэтический кинематограф оказался парализованным. Зато — то ли из «святой простоты», то ли из скрытой насмешки — Параджанову предлагают... делать дубляж. В то же время постоянно отбрасываются его собственные инициативы — попытки поставить фильмы «Киевские фрески», «Чудо в Оденсе», «Исповедь», «Бахчисарайский фонтан», «Демон», «Золотой обрез». Умерла и самая дорогая творческая мечта — «Интермеццо» (за Коцюбинским). О театральных замыслах («Гамлет») — и говорить нечего! И, определено, больше всего, что мы потеряли, — это неосуществленный замысел киноверсии Шевченковой «Марии». К счастью, его творческая фантазия воплотилась в создании фильма «Лебединое озеро. Зона», который за его сценарием (на его «личном опыте») поставил Юрий Илленко.
Украина выжила Параджанова, вычистила, как будто аборт сделала. Он оказался в шкуре одинокого волка, обложенного флажками. В свое время Александр Довженко и Игорь Савченко, которые заложили славные традиции украинского метафорического кинематографа, так же вынужденные были работать разве что на одну сотую своей творческой силы. Параджанов тоже остался автором всего четырех полнометражных художественных лент. Не поставленных фильмов у него больше, чем у любого другого режиссера. Лишь во время ареста в 1974 году исчезло семнадцать сценариев, подготовленных к съемкам, но отброшенных «киноруководством». И еще около сотни было вынесено им из заключения («в голове, чтобы не уничтожили»). А он же мог все: снять лирическую киноэлегию о телеграфном столбе, поставить балет «ХIХ съезд КПСС» в Георгиевском зале Кремля. Существует легенда, что Параджанов все таки поставил «Гамлета»... на зоне. Говорил сам он: «Мне достаточно обложки исполосованного сценария, чтобы сделать гениальный фильм». Последний поистине грандиозный замысел «Слово о полку Игоревим» он не смог уже даже рассказать, хотя продуман он был Параджановим по деталям. Тогда из-за болезни он разговаривал через силу, поэтому удалось записать на видеокамеру лишь малую часть его исповеди.
Он не «прогнулся» до декретированного общего уровня, поэтому советская система тотального подавления человеческого духа действовала автоматически. Такое «маринование», игра на неосуществленных ожиданиях закончилась тем, что звание народного артиста Украины было присвоено Параджанову лишь в год смерти, а Шевченковская премия — в 1991 году, уже посмертно.
Андрею Тарковскому он говорил: «Тебе нужно отсидеть хотя бы два года. Без этого в России не станешь большим режиссером». А Достоевский, побывав на каторге, утверждал: «Чтобы так писать — страдать нужно». Поэтому можно лишь «порадоваться» с того, что судьба, смеясь с Параджанова, в конечном итоге вылепляла из него именно то, чем он стал. И дай боже, чтобы Сергея Параджанова, фантазера и максималиста, нарушителя табу и жреца красоты, Магистра Игры в Жизнь, не сузили посмертно. Он как раз понимал в драгоценном искусстве свободы.
Игра в жмурки со смертью
С точки зрения «умеренного» окружения, заскорузлого в своем «добровольном самоограничении», он был «слишком жив». Поэтому как живой человек, а не ангел, он не церемонился с начальством, бунтовал против философии насилия и подхалимажа. Он был неумолим в оценках, любил «голу. и шершавую» правду, а не ее «сусальную» разновидность, украшенную цветами «сладкими соплями». Излишне требовательный к себе, нетерпимый к фальше, он мог быть резким до грубости. Всю жизнь он иронизировал, насмехался над смертью и властью, которая постоянно травила его, будучи объектом его сарказма. Поэтому гениальный мистификатор с его «сумасбродными выходками» в конечном итоге поднадоел власти. А не нравиться власти у нас во все времена было «чревато». Он был вычеркнут из украинского киноискусства.
В первый раз он был арестован в Тбилиси в 1947 году (23-летним парнем). Его посадили без суда и следствия и выпустили без особенной юридической волокиты — просто выкупили. 1974—77 годы — новая длительная «отсидка», фактически ни за что. И это — не злосчастный 37-й, а наши совсем недавние годы. Найти повод для ареста Параджанова тогда не составляло ни какой сложности. По советским законам он был настоящим бомжем — нигде не прописанный, нигде не работал, и всем мешал — правительству, соседям, другим режиссерам. Надуманным поводом стало обвинение его в гомосексуальных склонностях. Однако главной причиной ареста было то, что после погрома, совершенного против украинской интеллигенции в 1972 году, квартира Параджанова на проспекте Победы была единственным местом в Киеве, где каждый мог говорить то, которое думает. И от чего электронные уши КГБ иногда просто пухли.
Те, кому «по службе» надлежало заботиться о соблюдении верноподданной серости или кто сам делал на ней карьеру, ненавидели Параджанова. За талант, за вольнолюбивый дух и за то, что его фильмы пробивали стену эстетичной тюрьмы соцреализма и творили совсем другое искусство. За его дерзкие разговоры и беспощадно правдивые суждения. И за то, что его любили творческие люди, к нему тянулись. При этом ему даже не не приходило на ум прибиться к какой-то политически настроенной «интеллигентской группе», стать активным диссидентом с огнем в глазах. Он, как в свое время Пушкин в кругу друзей-декабристов, оставался трепетно оберегаемым стандартом эстетичной свободы. А воля в эстетике — это первый шаг до воли достоинства, свободы личности.
Он был «директивный» зек. То есть, когда давали срок, то негласно вместе с ним в зону шло распоряжение, что на волю он уже не должен выйти. И когда известный французский писатель Луи Арагон по просьбе комитета по освобождению Параджанова (прежде всего Лили Брик, сестра которой, Эльза Триоле, была женой писателя) «уломал» Брежнева, и тот «соизволил» дать согласие на помилование, то Параджанова в течение полгода не могли отыскать в колониях Винницы даже КГБисты. В зоне он приобрел авторитет. В одном из пунктов обвинения значилось, что он «изнасиловал члена КПСС». Поэтому солагерники ему с уважением говорили: «Мы их на словах «употребляли», а ты — в действительности». А спасло его в зоне... творчество. Однажды Лили Брик он послал как «презент» розу, сделанную из старых носков. Она, благодаря, телеграфировала: «Ваши произведения, как и ваши фильмы, меня поражают. Но как-то специфически пахнут...»
Он вышел раньше срока, веселый и жаждущий жизни. А в 1982 году — в третий раз оказался в Тбилисской тюрьме. И все же остался свободным человеком, которого так и не смог раздавить каток государственной машины. Поэтому вовсе не удивительно, что наилучшими своими годами он называл годы заключения.
