
Существуют художники, которые невзирая на многочисленные награды, отличия и аплодисменты, принадлежат к людям, которые не любят шума вокруг своей личности, одним из таких людей в Украине есть художник-иллюстратор Владислав Ерко.
Приветливый, открытый, искренний, он не будет тянуться в гении, поскольку твердо убежден: каждую иллюстрацию можно сделать тысячами способов, и он, возможно, нашел не самый лучший. И в то же время как иллюстратор книг издательств «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГЕКТАР» или «София», В. Ерко является художником, творческую руку которого узнает и старый, и малый, с его рисунками всем нам никогда не скучно.
— Купила во время книжного форума новую книгу Ольги Токарчук и в первой же новелле зацепилась мыслями за откровение многолетнего ребенка: «Уже ничего с этим не сделаешь — я есть». Когда осознание, того что вы есть и состоялись как художник — пришло к вам?

— Уверенно могу говорить только о самоосознании себя как ребенка. А это случилось в селе над Десной, где жила моя бабушка. Если есть какие-то будущие жизни, то больше нигде не хотел бы рождаться, только там. Это единственное для меня настоящее место, тот райский сад, который существует, но, к величайшему сожалению, утраченный для меня. Так случилось, что через глупость — не мою — потеряли бабушкину хату. Несколько лет назад я ездил туда и увидел другой забор, здания, но те же высокие тополя которые сопровождали меня с детства до почти сорока лет и, как будто ничего не случилось, радостно шелестели. И я едва не расплакался. Потому что первое, что пришло в голову: «Какие же вы изменники»!
— Эти тополя сопровождают вас в ваших рисунках?
— Они могут быть не присутствующими «в кадре», но всегда формируют ощущение, воспоминания о событиях, что их в реальной жизни могло и не быть. Это подсознательная вещь. Кто-то сказал: детство — источник, из которого черпаем до самой смерти. Для меня оно — формула вдохновения. Потому что чаще всего мыслями именно там. Мне даже сложно назвать это воспоминаниями, потому что «сею» смуту какого-то пейзажа со сценами из фильма «Человек-амфибия», реальных вещей с сюжетами, которые моя мама или дядя вырезали из журнала «Огонек» и тому подобное. Однако в моей голове это складывается как полностью реальное воспоминание о каком-то конкретном событии. И когда анализирую, то оказывается — нафантазировано почти все. Но мое детство состоит именно из такой нереальности. Меня поражали другие люди, то, что они жили полностью другими настроениями, эмоциями, цветами, запахами. Запахами особенно. До сих пор знаю, за какую ниточку надо дернуть, чтобы что-то вспомнить.

— Запах можно нарисовать?
— Нет, хотя кое-кто утверждает, что можно. Но такие утверждения — от лукавого. Потому что речь идет о полностью разных плоскостях, которые могут пересекаться только в душе, но никоим образом не на бумаге.
— Как считаете, иллюстратор должен приседать на корточках перед читателем, в частности ребенком, или, наоборот, должен вынуждать тянуться вверх?
— Буду говорить о детях. Никогда не встречал ни одного ребенка, который был бы в восторге от всяческих сюсюканий. Это метаморфоза, которая происходит в головах мамочек или папочек, которые вдруг решают, что ребенку именно это и нужно. У взрослых вывихов много. Например, актуальная в настоящее время тенденция псевдо-морализаторства. Потому что матери требуют гламурных текстов — то есть когда, скажем, пираты в тех-таки «Пиратах Карибского моря» не курят трубок, не пьют, а ведут почти правильный образ жизни.
— Что-то наподобие нашумевшего канадского исследования о том, что классический «Винни Пух и все-все-все» является наглядным пособием по детской психиатрии, а его персонажи — больные и социально опасные, следовательно негативно влияют на детскую психику? Сложно поверить, что кто-то может видеть в наличии процента детей с психическими проблемами вину Винни Пуха и его друзей. Это же полная чушь!
— Но так и есть. Пытаются переделать прочь все — от народных сказок до произведений Андерсена. И то, что происходит в этой плоскости псевдо-морализатортва, — ужас! Потому что фактически разрушают детскую литературу.
Все эти образы и персонажи существовали давно, они уже созданы со своими плохими и хорошими качествами, это нельзя выбрасывать, нужно только показать отношение к тем или иным вещам. Многим, например, нравится разная музыка, кто-то любит попсу, кто-то реп, кто-то джаз, но это же не значит, что плох тот, кто не слушает только классику.
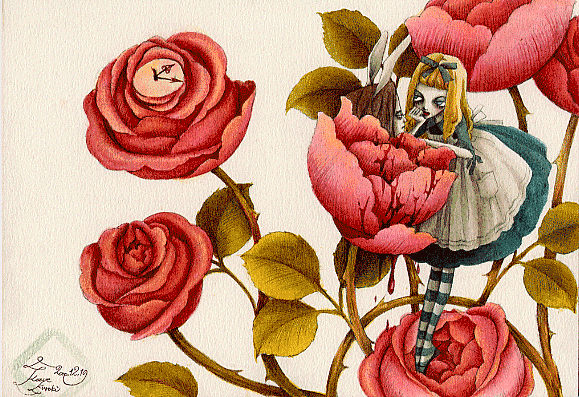
— Уолт Дисней одним из условий приема на работу ставил необходимость поездок в разные страны мира, чтобы там будущие работники наблюдали за животными в естественной среде. А у вас есть определенные правила, которых придерживаетесь, берясь за ту или другую творческую работу?
— У меня вообще нет правил, поскольку я совсем недисциплинированный человек. И порою меня мучает совесть. Ведь канон работы над иллюстрацией предусматривает дисциплину, почти японскую медитацию, не говоря уже, извините за выражение, о «железной заднице». Ведь эти иллюстрации нужно не только продумать, но и высидеть. Обычно каждый из иллюстраторов имеет свои четкие или не очень четкие правила, принципы. А у меня это совсем отсутствует. Я преображаюсь. Однако единственное, о чем сожалею, — очень медленно развиваюсь как художник. Ведь вскоре мне исполнится 50 лет, а еще до сих пор мечтаю и знаю, как должен совершенствоваться.
— Где-то читала, что иллюстратор (рисунки которого также узнаю и очень люблю) Кость Лавро копирует своих персонажей с себя: становится перед зеркалом, делает определенное выражение лица, которое следовательно переносит на бумагу, дорисовывая его зайчикам, лисичкам или мишкам. Как творите своих героев вы? Насколько важными для вас является их персоны? И которой, с вашей точки зрения, должна быть иллюстрация к детской книге — познавательной, декоративной или какой-то еще?
— Более всего люблю формальных художников, которые рисуют в чем-то упрощенными средствами. Возможно, немного тяготею к импрессионизму. Однако думаю, что здесь все жанры хороши, кроме скучного. А относительно иллюстраций к книгам — то еще и кроме серого, бездарного. А такого стиля почему-то очень много. В настоящее время все ринулись в детское книгоиздательство. Под давлением электронных книг очень пострадала бумажные — уровень продажи упал на 40%. А потому все берутся издавать книги, проверенные порою, однако выполняют их в однообразной стилистике.
— Своеобразное эпигонство диснеевских героев (большие головы, синие глаза и тому подобное), на которое страдало все постсоветское пространство?
— Страдал, страдает и еще долго будет страдать. Но Уолт Дисней — это все-таки величина, а уровень всех этих современных рисунков ужасный. Пытаясь заработать, издатели не приглашают интересного художника и не планируют этого делать, чтобы вместе выстрадать книгу, перессорятся 300 раз, пока иллюстратор не начнет творить так, как нужно, или не убедит, что его вариант лучше, чем хотел издатель. В Украине, правда, ситуация с оформлением не такая трагическая, а вот, скажем, в России, просто ужас. В погоне за легким хлебом издатели выкупают за бесценок книги (с художественным оформлением включительно), которые давно уже «отгуляли» на Западе, пережили огромное количество тиражей и вышли на пенсию. А здесь их тиражируют как что-то чрезвычайно свеженькое. Даже если случается среди того, что-то неплохое, то теряется. А наилучшие иллюстраторы даже тех-таки 30-80-х годов ХХ века как не присутствовали, так такими и остаются.
— С вами легко поссориться относительно рисунков?
— Нет, мне более легко признать свою непрофессиональность или безвкусицу, чем бороться. Предпочитаю не вступать в споры, потому что на своем веку достаточно наспорился. А потом понял, что это бессмысленно. Ведь то, что говорит художник, — это его внутреннее литературное творчество, своеобразные подвязки для поддержки собственных духовных штанов. Зачем далеко ходить? Прочитайте Джорджа Вазари о жизни флорентийских живописцев прошлого или посмотрите на отношения современных художников, которые друг с другом такие карамболи творят, что ой-ой-ой. В конечном итоге, художники спорили и ссорились всегда. Вон Микеланджело к Рафаэлю говорил: «Все, что ты умеешь — то, что ты успел у меня украсть». Споры в таком тоне актуальны и в настоящее время. Поэтому убежден: иллюстратору достаточно его рабочего стола, темы книги. А все «литературные» клубы — лишние. Ведь каждый имеет свои интересы, то, что он любит рисовать больше всего, и подстраиваться под кого-то — просто бессмыслица. Я, скажем, с удовольствием проиллюстрировал бы несколько книг, где были бы только городские пейзажи, европейские домики времени барокко или более ранние. Однако таких сказок не существует — потому надо рисовать персонажей, события.
— Какие события могут происходить в старом городе, который вы так тщательным образом прорисовывали в последней книге «Высекало». Недавно кафедра графического дизайна Львовской академии книгопечатания организовала выставку студенческих курсовых и дипломов, надеясь, что какому-то издателю придется по душе то или другое оформление и он захочет издать книгу. Зато то, что действительно было интересным, вызывало невосприятие (мол, кто же это купит!). То есть действительно творческое в наших реалиях остается невостребованным.
— Вот и я говорю. В свое время мир пленяла английская книжная графика — даже немало наших знаменитых художников развилось под ее влиянием. Это была черно-белая графика, потому что цвет стал табу. Английские издатели решили, что цветные иллюстрации — безвкусица. И делали книги-мечты, которые были крайне дорогими, но имели чрезвычайно высокий уровень оформления. Это был золотой век, когда в книге состоялось главное. А дальше — деградация или недеградация, но такого взрыва больше не было. Истории известен пример русского издателя Ситина, который сам не читал ничего, но книги вгоняли его в высокодуховный ступор. Правда, он сначала попал под влияние студента-авантюриста, который пересказывало своими словами произведения Гоголя, Толстого и других писателей, давая их героям другие имена. А Ситин, воспринимая это все за чистую монету, выдавал это, пока кто-то не раскрыл ему глаза. Тогда издатель пригласил редакторов и превратил свое издательство во что-то такое, о чем можно говорить и теперь. А наши книгоиздатели по сотому кругу проходят тот первый ситинский период, однако редактора, который сказал бы им: «Дурак, что ты делаешь?», не нанимают. Поэтому у нас огромное количество классных художников, которые, сделав одну-две попытки иллюстраций к книгам, пошли в живопись, станковую графику или куда-то еще. Потому что их книги никому не нужны.
— То есть они их никому не предлагали?
— Предлагали. А им показывали иллюстрации Уолта Диснея, как и мне. Потому что издатель заинтересован, чтобы быстро заработать много денег. А здесь вдруг оказывается, что еще надо заплатить какой-то тщеславной сволочи — художнику или писателю. А это уже немногие включают в свои планы (хотя такие чудаки, на счастье, есть). А поэтому и о ватерлинии в художественном оформлении в настоящее время достаточно говорить — ее часто просто нет. Однако вещь даже не в издателях, а в народе, который не хочет читать. То есть все как всегда упирается у заказчика. Ну, могли же Бах или Моцарт зарабатывать — их музыка была нужной. Я где-то читал, что мать Гете приехала в Зальцбург и говорит: «Такая скука, такая скука! Одно только развлекает: все дворники поют арию Папагено, а поварихи — Царицы ночи из «Волшебной ночи». Представить такую ситуацию сегодня невозможно. Мне вообще кажется, что надо перестать раздавать комплименты народа, то есть тем, кто может покупать книги и не делает этого. Как-то дорогой из Киева в пункт Б я поспорил на эту тему с приятелем-издателем. А в его автомобиле лежал роскошный и очень дорогой (стоимостью приблизительно 150 долларов) двухтомник Эдгара По. Мы остановили машину в селе и решили проверить, опросив десяти людей, готовы ли украинцы выложить за такой двухтомник хотя бы 50 гривен. А еще, готовы ли взять его бесплатно, но с условием прочитать: мол, через год приедем, проверим, и если книгу не прочитали, то заберем за это свинью, мотоцикл или что-то другое. Поэтому представьте себе, главный аргумент, почему издание осталось у нас, — «надо сначала людей накормить, а тогда цепляться к ним с книгами»! Вот с кем имеем дело. Мне кажется, жлобу надо говорить, что он — жлоб, нужно формировать в нем чувство собственной неполноценности, чтобы человек, который агрессивно не читает книг, знал, кто он такой.
— Немало моих приятелей-живописцев, работая на эмоциях, часто не знают, что появится на полотне за две минуты. Художник-график — это что-то другое: скорее продуманность, чем спонтанность. Это так?
— Сначала в моем воображении появляются три-четыре иллюстрации, которые не дают мне жить. Тогда начинаю «сверлить отверстие» в голове Малковича, чтобы он сказал: «Да рисуй уже, потому что ты мне с этим поднадоел». И здесь возникают некоторые проблемы, потому что надо придумать остальные рисунки, нанизать их на первые. Думаю, так происходит со всеми. Слышал много критики в свой адрес, в частности от преподавателей академии, мол, у меня совсем «недисциплинированные» книги, в них нарушена архитектоника, нет равновесия и тому подобное. Полностью соглашаюсь, потому что во мне нет равновесия, то откуда оно возьмется в моих иллюстрациях?! С другой стороны, знаю огромное количество книг, которые безукоризненные с эстетической точки зрения, но немногие способны прочитать их до конца — скучно. А что толку от канона, если эмоций нет?
— Интеллект художника имеет значение для создания иллюстрации?
— Очень люблю всевозможные истории о художниках-чудаках. Вот Джотто сильно матерился. Потому что в селе, откуда он родом, матерились почти все. То его друг Данте, наблюдает несколько раз, как напуганные заказчики (которые до этого воспринимали Джотто как творца божественных картин) отказываются от услуг такого «чудовища», заявил о своем желании вести все переговоры сам... В действительности интеллект неважен, а кое-где даже вреден, поскольку часто приводит к большому количеству спасательных мероприятий. Художник-интеллектуал всегда волнуется о каноне, не говоря уже о том, что пытается поразить зрителя своим высокодуховным статусом, начитанностью, незаурядностью, а это в действительности прочь неважно. Конечно, интеллект имеет позитивы, потому что дает признание другими художниками, образованность, которая не позволяет ступить ниже, но является необязательной. Недавно прочитал дневник Дюрера. Простите, но это обычная бухгалтерская книга ни без каких духовных поисков или мыслей относительно того, как изображать. То есть получаем впечатление полностью другого человека, чем и, которую представляем, когда смотрим на ее картины. Меня такой неожиданный диапазон всегда поражает и радует. Убежден, что все в действительности значительно проще или сложнее, чем думаем.
— Чувствуете на себе груз успеха? Знаете того человека, о котором так восторженно пишет пресса?
— Ой, это ужасно! Страшнее всего, когда кто-то говорит мне обо мне: «Это гениально»! Знаю 20 киевских иллюстраторов, которых считаю лучше себя, хотя немало из них меня не любит, считая китчевым. Однако это не мешает мне любить их. И в этом я вижу для себя выход, чтобы не стать идиотом.
— То есть болезнь тщеславия вас не поразила?
— Нет, правда, переболел на нее в детстве, считая себя гениальным приблизительно до 14 лет и ужасно, ревнуя к Рубенсу, Репину и другим. А потом, когда приехал поступать в республиканскую художественную школу имени Т. Шевченко в Киеве и увидел на стенах работы своих одногодков, то понял, что я полная бездарь и упал в депрессию. По-видимому, на протяжении года вообще ничего не рисовал. Кстати, тогда так и не появился на экзамены в художественную школу, невзирая на то, что имел блат стопроцентно пройти.
— То есть выбросив комплекс. Удалось от него избавиться?
— Мне более легко считать себя неидеальным художником, потому что когда имеешь противоположное отношение к себе, то ты пропал. Видел много идиотов, которым уже по 60-70 лет, а они все еще ищут нишу в пантеоне богов, в ссорах или драках выясняют, кто из них более гениальный. Возможно, это последствия совка — не знаю. Все относительно. Сегодня мы увлекаемся Ван Гогом, а в свое время 50 жителей Арля подписало петицию к полиции, чтобы этого художника не выпускали на улицу — он вселяет страх. Писсаро менял картины на пирожки, а Мане мог заплатить владельцу стоимость поля, чтобы никто не мешал ему рисовать. А в музее их работы висят рядом. То есть я понял, что все в этом мире относительное.

Коментарі: 1
1 Денз 13-03-2018 22:41
Нет меры тщеславия, есть лишь мера умения скрывать его.